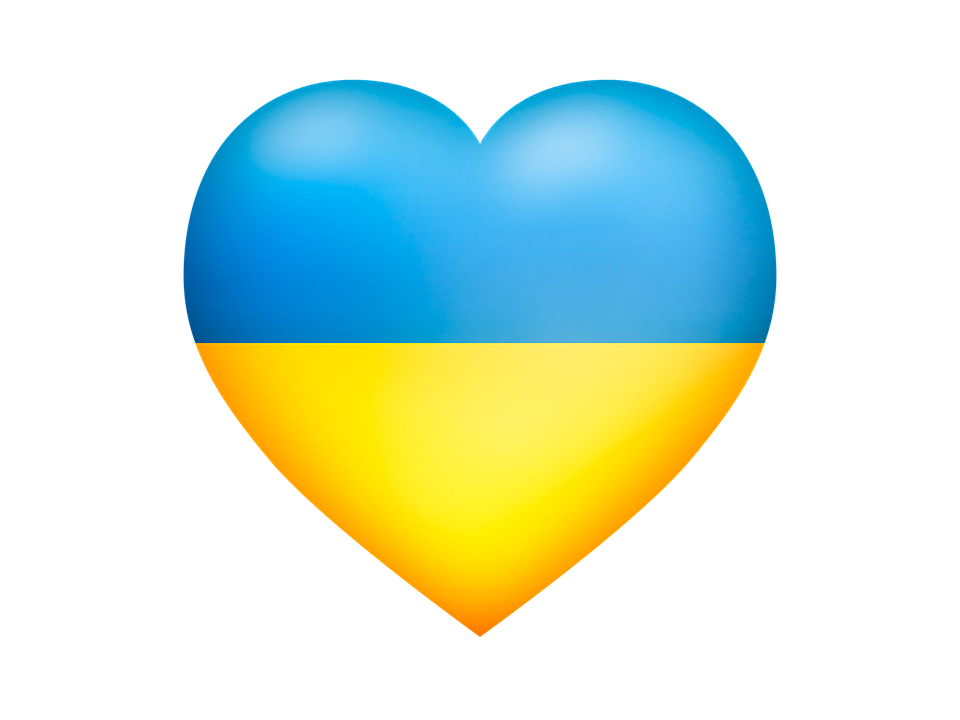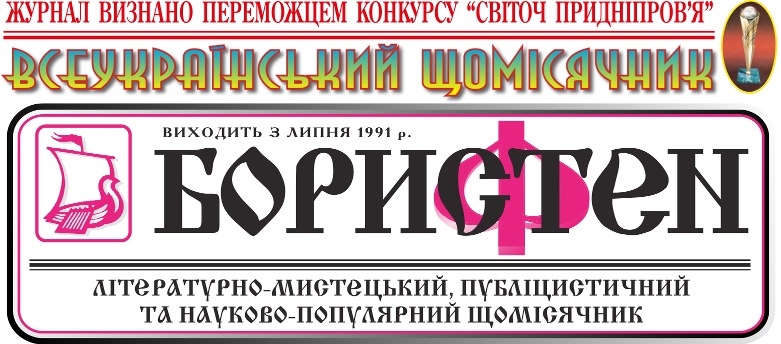Про це не напишуть в підручниках історії...
- Деталі
- Опубліковано: Вівторок, 09 липня 2019, 08:47
 Про автора: Абламська Юлія, мешканка міста Луганськ до 26 серпня 2014 року. Народилась в Брянську 12.04.1979 року, РФ, та обрала Україну свідомо в 2000 році. Каже, ще ніколи не шкодувала про свій вибір, навіть коли почалася війна та була вимушена залишити свій дім, роботу, знайоме та звичне життя. Тривалий час працювала перекладачем за англійської мови, зараз живе та працює в Києві на евакуйованому з Луганська підприємстві.
Про автора: Абламська Юлія, мешканка міста Луганськ до 26 серпня 2014 року. Народилась в Брянську 12.04.1979 року, РФ, та обрала Україну свідомо в 2000 році. Каже, ще ніколи не шкодувала про свій вибір, навіть коли почалася війна та була вимушена залишити свій дім, роботу, знайоме та звичне життя. Тривалий час працювала перекладачем за англійської мови, зараз живе та працює в Києві на евакуйованому з Луганська підприємстві.
Лето
Я часто думаю, когда это все началось. Сейчас, в чужом для меня городе, дорога от дома до работы и обратно занимает больше часа, по вечерам я часто выхожу раньше своей остановки, чтобы пройтись пешком и подумать. Дома я все время ходила пешком – Луганск небольшой город, все, что мне было нужно, было рядом. Поддержание мышечной памяти, наверное. Чаще во время этих длительных пеших прогулок я веду с собой этот молчаливый диалог: спрашиваю, когда же весь этот кошмар начался, самой себе отвечаю многословно, с какими-то глупыми подробностями, но никогда конкретно. Я не помню точной даты, когда в мою жизнь вошла война. Часто слышу или читаю от других: «Мы еще в марте поняли, что надо валить. Продали соседям квартиру, дешевле, конечно, но и не так, как продают сейчас, и быстренько перебрались в Киев-Ивано-Франковск-Харьков-Житомир». Смотрю на таких людей и мне трудно верить. Я не видела и не понимала ничего. Я много и хорошо работала, 2013 год был удачным для нашей компании и лично для меня. Мы выполнили крупный заказ и строили планы на ближайшее и отдаленное будущее. Оборудовали производственный цех и думали о расширении. Проектировали новые машины и готовились к выставкам в Донецке, Киеве, Москве, Варшаве. Никакого чувства надвигающейся катастрофы не было.
О Майдане я узнала в поезде Луганск-Москва в январе 2014, когда ехала по каким-то делам. На российской таможне в купе, где я ехала одна, зашел пожилой подполковник из Омска. Увидел мой синий паспорт на столе, едва не кинулся на меня с кулаками, принялся орать про угрозу Ростовской области со стороны «бендер». Помню хорошо, что спросила, какая угроза Ростову может быть от Молдовы, тем более, что Бендеры – это город в непризнанном Приднестровье. Между РФ и Молдовой вся Украина! И вообще, это разны государства! Какая уж тут угроза?! И чуть не получила собственным паспортом в голову. Подполковник рвал и метал, выкрикивая «пиндосы!», «такую великую страну!», «нет никакой Украины и Молдовы, это все территория великой России!», и так далее, далее, далее уходил поезд в русскую зиму, а я вычленяла из его бессвязных воплей крупицы о протестах в Киеве, по его авторитетному мнению, конечно же, антирусских.
По возращении домой, окунулась в работу, ремонт, подготовку к отпуску. Понимала ли, что происходит что-то экстраординарное? Нет. О расстрелах узнала совершенно случайно от кого-то из друзей, помню ощущение свернувшегося времени и уходящий из-под ног асфальт. Дальше воспоминания размазаны как масло по куску хлеба – трудно собрать в кучу, чтобы почувствовать его вкус.
Вот мы стоим с подругой во дворе старой типографии после урока английского. Зима уже кончилась, лужи еще затянуты льдом, и грязный снег портит настроение, но мы уже сняли пуховики и отчаянно мерзнем в пальто. Почему-то не горят фонари, только один над входом, прямо над нами. Мы стоим в это белом луче, надеясь, что скоро муж подруги заберет нас на своей уютной и теплой машине, а пока отчаянно стучим зубами и вглядываемся в темноту. Глаза привыкают, и мы уже различаем несколько стареньких автобусов, похожих на те, что возят шахтеров на работу. Вот только что делать шахтерским автобусам возле типографии в десять вечера…
Когда появились первые пассажиры, мы уже настолько свыклись с темнотой, что смогли разглядеть отсутствие номеров на старых колымагах. Пассажиры тоже выглядели странно – молодые, в одинаковых черных спортивных костюмах, на некоторых балаклавы и вязаные черные шапки на залом, и у всех в руках длинные металлические пруты. Они медленно шли к трем автобусам, помахивая этими прутами, и глядя на нас. Нас нельзя было не увидеть, мы были единственным ярким пятном в совершенно темном дворе. Поняли ли мы тогда, что вокруг происходит что-то не то, и надо бежать? Нет… мы были глупы и беспечны, мы просто до полусмерти испугались толпы молодчиков с арматурой, но связать ее с происходящим в городе ума у нас не хватило. Хорошо, что муж подруги сгреб нас в охапку и увез из того страшного двора в наши такие родные и безопасные дома. Это было в самом начале марта. Катастрофа не ощущалась.
О начале войны написано тонны статей, есть тысячи фотографий и видео. Для тех, кто знает, что такое это такое – находиться под артобстрелом и, лежа на полу, орать какие-то слова придуманной только что молитвы, рассказывать об этом не надо. Для тех, кто не знает, рассказывать бессмысленно. Передать совершенно животное состояние, в которое ты впадаешь, когда страх сжимает тебе горло, желудок, берет в стальной обруч голову невозможно. Нельзя передать словами ощущение нечеловеческого облегчения, когда залпы и взрывы стихают, и ты встаешь и проверяешь, оба ли уха слышат, можешь ли говорить, целы ли стены твоего дома. И понимаешь, что сегодня тебе повезло и прилетело в соседний дом, а не к тебе. Эйфория, которая тут же сменяется горячим, обжигающим нутро стыдом: ведь в том доме тоже люди, они могли пострадать. Но выйти сил нет, колени не гнутся, пальцы не слушаются, завязать шнурки – невыполнимая задача. Да и комендантский час, заметят – пристрелят на месте, или же подвал. И неизвестно, что лучше. И так день за днем ты понемногу теряешь человеческий облик. Самоуважение, гордость, достоинство – все это по капле выпивает из тебя страх. А если прибавить к этому ежедневные битвы за выживание: поиски еды, воды, когда деньги уже полностью закончились, то легко понять, как быстро самый интеллигентный человек превращается в дикое животное. Для меня в выживании нет подвига, это всего лишь вопрос того, как быстро ты перестанешь быть человеком – чем быстрее, тем больше шансов увидеть завтра.
Электричество в оккупированный город подавалось с перебоями весь июль, холодильник давно сгорел, ноутбук держался благодаря хорошей батарее. Но второго августа он все же наступил – полный конец света. В адски жарком городе исчезла вода, насосы остановились. Электричества не было нигде: ни в больницах, ни в моргах.
Смутно знакомый номер на экране еще работающего телефона:
– Можно я к тебе приеду?
– Конечно. Ты тоже больше не можешь один?
– Мне надо с кем-то поговорить…
– Заходи. Что за вонь от тебя? О бог мой, меня сейчас стошнит!
– Я был в морге. Ну как в морге… мест же не хватает, холодильники же не работают, там они, понимаешь… они просто лежат на улице. Мне позвонила мать моего друга детства, я единственный, кто не уехал. Кто-то ей сказал, что ее сын, пропавший уже третью неделю как, там. В морге. Вернее – не в морге. На улице. Его, вроде бы, опознали по татухе.
– А ты при чем?
– Понимаешь, мы в детстве дружили очень. Потом, я – в универ, он – в бурсу. Разошлись характерами. Он пропал три недели назад, а мать еле ходит, артрит. Тут ей кто-то сказал, что видели его ТАМ. Возле морга. На улице. Она только мой и нашла номер телефона. Еще городской, не мобильный. Ну, я и поехал.
– Нашел?
– Нет.
– Вот вода в бутылке. Выброси, пожалуйста, свое полотенце в мусор.
– Тебе не жалко?
– Нет. Оно пахнет смертью.
Утро начинается с тщательного туалета: душ, расчесывание, чистка зубов. Вода – драгоценность, ее просто нет. Очень часто, притащившись к колонке, ты обнаруживаешь, что вода в ней уже закончилась и идешь искать следующую. Многие перестали мыться, в адской жаре степного города этих людей слышно за километр, но скоро я понимаю, что мои обонятельные рецепторы привыкли и почти не ловят эту какофонию кошмарных запахов. В канализации воды тоже нет… В оставленных квартирах гниют продукты в брошенных холодильниках. Люди опускаются мгновенно, но никаких эмоций это уже не вызывает. Часто привозят воду пьяные «ополченцы», выстраиваются километровые очереди измученных, дурнопахнущих людей. Но у этой воды очень явный запах канализации и смерти. Я хожу за четыре километра от дома к колонке в частном секторе. Соседка одалживает свою тележку на колесах, благодаря ей удается притащить четыре, а то и пять пятилитровок воды. На рынке такие тележки стоят каких-то совершенно нереальных денег, они вместе со свечами, батарейками и дешевыми китайскими приемниками стали самым востребованным товаром.
Однажды мы с соседом, тащась на колонку за водой через соседний квартал, обнаружили там БОЧКУ! Синюю пластиковую бочку с чистой водой, водруженную на прицеп стареньких жигулей. Рядом курил меланхоличного вида мужик - хозяин бочки. Вот именно мужик, это слово ему подходило как никакое другое. От него просто тянуло какой-то крестьянской основательностью, приземленностью и размеренным спокойствием. Воду он продавал. По гривне за литр. Как бы дорого, но если подумать, сколько в тот момент стоил бензин, чтобы заправить генератор, подключенный к насосу, да заправить старенький жигуль, да слить на паре блок постов, то получалось, что мужик этот воду возил бесплатно. Просто за само право ее возить. Мы с соседом радостно взвизгнули и с восторгом отсчитали ему любовно снятые еще в благополучные времена с кредитных карт гривны. Кстати, шестилитровые бутылки он нам считал как пятилитровые, мол, каждый шестой литр– бесплатно. Ходить далеко не надо. Вода и правда чистая, после кипячения никакого осадка, без запаха и лишних вкусов. Но радовались мы недолго. На шестой день мужик не приехал. И вообще больше не приехал, потому как из подъезда хрущевки вышел тощий молодой человек в камуфляже, при гнилых зубах и автомате. И заявил примерно следующее: «На трудовом народе наживаешься, гнида?» Тот начал оправдываться, рассказывать о ценах на бензин и как сложно проехать через блок посты. Я увидела фонтанчики пыли от автоматных пуль, взметнувшиеся возле ног водовоза. Он нырнул в свой жигуль, а вдогонку ему неслось: Еще раз увижу – тебе не жить!». Так мы снова возобновили свои ежедневные блуждания в поисках воды.
Однажды в том же самом дворе из-за гаражей выскочил щенок. Подросший такой, месяцев шести-семи. Сеттер, но не рыжий, а черно-рыжий – сеттер-гордон, кажется. Дружелюбная животина была привязана к гаражу на длинном поводке. Вокруг миски с водой и остатками еды. Т.е., на улице явно живет. Рядом с гаражом. Брошенный, как многие животные в то лето. Тогда я впервые увидела на улице целые банды породистых домашних котов: персы, британцы, даже лысые. Теряя человеческий облик, бывший человек легко предает тех, кто ему доверился.
Рядом с гаражами курят местные мужики, которых мы встречали у бочки каждый день.
- Можно погладить?
- Да гладьте, он только очень уж активный. Залижет и испачкает.
Так и случилось, я шлепнулась в пыль, а пес уже залез на колени и заурчал, как котенок. И тут один из мужичков кричит: «Арчи, прекрати!» Арчи – так звали мою собаку когда-то... И все. Я понимаю, что к живущим у меня чужим коту и попугаю я получаю этого щенка, потому что после такого я не могу оставить его в этом дворе, привязанным к гаражу. Обнимаю собаку, он лижет мне нос, слезы застилают глаза, но нельзя плакать! Спрашиваю, не знают ли они, чей это щенок. И этот ЧЕЛОВЕК, почесывая затылок, и вдруг произносит: «Да, пожалуй, что уже мой...» И, кряхтя, отвязывает сияющего пса и ведет домой. Я потом каждый день встречала их. Оба выглядели абсолютно счастливыми.
– Ты вообще помнишь, что я был у тебя вчера? Ночевал.
– Да. Помню. Ты спал в гостиной на диване. А перед этим мы что-то пили, потому что было страшно.
– Почему ты спишь на полу в прихожей?
– Потому что в моей спальне окно. Напротив моей кровати. Если взрывом выбьет стекло, осколки будут все мои. А мне еще надо жить. У меня дела.
– Я был у мамы друга, ну того, которого не нашел. Она спит в ванне.
– У меня душевая кабина. Она стеклянная, ты забыл? Ты отмывал в ней запах трупов
– Да. Просто так странно… Заходишь к женщине домой, а у нее в прихожей – постель…
На первом этаже нашего дома магазин. Обычный такой АТБ. Встречаю директора – молодого парня, явно приехавшего откуда-то с Западной Украины.
– Здравствуйте! Я живу в этом доме, получается – над вами! Вы же директор этого магазина, я не ошиблась?
– Так, доброго дня!
– Понимаете, горсовет опубликовал список бомбоубежищ, и, получается, что наше – это подвал вашего магазина. А мы все живем над вами. Ваш магазин – это первый этаж нашого дома. Если вдруг что-то… ну, вы понимаете… Обстрел там, бомбёжка… Мы же никуда не добежим. Остались в подъезде только я, соседка с неходячей старушкой-матерью, семья инвалидов на втором этаже и девочка Катя на пятом. Вы же откроете дверь убежища? Примете нас? Вы же нас знаете всех, мы живем над вашим магазином!
– Я сподіваюсь, ви жартуєте…
– Почему шучу? Які тут жарти, тут війна!
– То яка то війна! То так. Через два дні скінчиться!
– Так вы пустите нас в бомбоубежище?
– Звісно ж ні! Там же товар!
Воды нет уже двадцать дней. От постоянного страха в голове нет мыслей. По ночам читаю Ильфа и Петрова и Булгакова. От Булгакова мороз по коже, события столетней давности повторяются слово в слово.
Каждый день строго регламентирован: поиски воды, кипячение, поиски еды, попытка что-то приготовить, стирка, снова поход за водой, ужин с соседями, разговоры о «когда же, наши, мальчики, да разнесите вы уже все здесь, мы потом все сами отстроим, лишь бы освободили нас…», долгое и сложное мытье посуды. И все это с перерывами на стрельбу, ГРАД стоит прямо в моем дворе, установку стараются ставить между домами, во дворе школы, чтобы ответка причинила побольше бед.
Утром соседка стучит в дверь: «Смотри, что я нашла! Если мы найдем батарейки, мы сможем его включить! Наверное…»
В ее руках огромный коричневый полированный ящик, затянутый тканью. Радиоприемник, наверное, шестидесятых годов. И мы смогли! Мы настроили его, уж не помню какую волну, но краткие новости и сводки с фронта на украинском мы слушали дважды в день – в два и в четыре. Когда первый раз услышали украинскую речь – еле сдержались. Хотелось кричать и выть и от счастья, что слышишь родную речь и от боли, что слушаешь ее тайком, украдкой. Так у нас появилась нетвердая, но хоть какая-то связь с реальностью. Ведь в оккупации не было не только света и воды. Не было и информации, и этот голод ощущался тяжелее всего.
– Надень очки.
– Зачем? Терпеть не могу темные очки. Только, когда вода рядом. Когда отпуск. Когда купальник и пляж. Когда мидии из океана тебе на сковородке подают, а ты болтаешь ногами в океане… Зачем мне очки в Луганске?
– Ты прожжешь сейчас взглядом кого-то из них. Твоя ненависть просто сочится, как яд. Только не с языка, а из глаз. Я сам боюсь на тебя смотреть, а уж они это точно почувствуют. Надень очки, прошу тебя.
Раньше в нашем городе было много роз. Их спасли во время коллапса девяностых и не так давно снова высадили на улицах. Желто-розовые, белые и стандартно-красные – они очень украшали наш неприглядный город. Тащусь со своей тележкой с пустыми бутылками вдоль длинной клумбы и думаю: вот как они выживают? Дождя нет уже второй месяц, жара нестерпимая, а они – смотри-ка, цветут и не засыхают. Чуть поодаль от меня бредут еще три женщины с такими же тележками и бутылками. Бредут медленно, плечи подняты до ушей, спины согнуты – квинтэссенция отчаяния. Вдруг вылетает большущий автомобиль с длинной цистерной «Голубой ключ» (торговая марка воды на разлив, популярная до войны, потом отжатая доблестными «ополченцами»). За ней зеленый микроавтобус. Из грузовика легко спрыгнули «ополченцы» в камуфляже, неуклюже размотали шланги и… начали поливать розы. ВОДОЙ! Из зеленого микроавтобуса бойко выпрыгнули модно одетые и явно чисто мытые люди с камерами и мохнатыми микрофонами. Я остановила свой двухколесный транспорт и решила понаблюдать за съемкой. А вот тетки… Увидев, как на землю выливается вода, ради которой они каждый день срывают себе спины, рвут мышцы, таская тяжести, одна тихо осела на асфальт и начала заваливаться на сторону. Вторая, схватив две тележки, кинулась к воде:
– Мальчики, родненькие, налейте! Мы же месяц без воды! Детки дома, детки… внук-инвалид, помогите! Водички!
Чистенькие телевизионщики удивленно уставились на бьющуюся в истерике тетку, на сидящую на асфальте, на ее подругу, обмахивающую ее не очень чистым платочком и смачивающую ей лицо своей слюной.
– А ну пошли отсюда! Вы что, не видите, съемка идет! Кыш, я сказал! Дуры старые, откуда вы все только повылезали! (я опущу обсценную лексику, пожалуй, но, думаю, каждый легко представить, ЧТО звучало в адрес бедных теток).
Дула трех автоматов смотрят на трех рыдающих женщин, каждая из которых годится автоматчикам в матери. Камеры и микрофоны опущены.
– Сыночек, ну прошу тебя… Водички!..
Она падает на колени и ползет в его сторону, молитвенно сложив руки. Один из «ополченцев» бьет по воздуху ногой, показывая, как именно он сейчас придаст ей ускорение, подруга кидается ей на выручку и оттаскивает на исходную позицию. Они подбирают свои бутылки и, согнувшись уже почти пополам и подвывая, медленно бредут прочь. Полив роз возобновляется, камеры включены, сияющая чистотой девушка с мохнатым микрофоном, улыбаясь жемчужными зубами, подбегает к загорелому «герою» в чистом камуфляже, который только что собирался ударить женщину ногой. Камера. Мотор.
Для меня все закончилось 25 августа. Сразу после Дня Независимости, который тихонько отметили с соседями гимном нашей страны, повторенным раз пятнадцать, наверное. Соседка из соседнего дома, тихий учитель начальных классов, принесла небольшой желто-голубой флаг, и мы пили и пели. И снова пили и пели о том, что «душу й тіло ми положим за нашу свободу». Две полоски – желтая и голубая – стали символом нашего выбора, выбора хотя бы внутренней, но свободы и непредательства. Утром мы обнялись и попрощались без слез и нытья, и вот вокруг меня невыносимо жаркий автобус, над головой свист снарядов, автоматные очереди. Мы, человек 15, незнакомые друг с другом, сидим, впечатав подбородок в грудь, подняв паспорта над головой. Уже прошли три блок-поста «ополчения», они легко узнаются по нетвердой походке и резиновым тапкам с драными носками. Вонь никто из нас уже не слышит, в нашем жарком южном городе к тому моменту ни капли воды нет уже месяц, а в некоторых районах и больше. Все мы тогда благоухали не ромашками. Но вдруг на очередном блок-посту ноги другие, они обуты в берцы. Стоят твердо. В голове голос водителя: «Не поднимать глаза, главное - на них не смотреть, только в пол, слышите, только в пол смотреть! А паспорт выше, как можно выше!». Я не выдерживаю и медленно ползу взглядом по камуфляжу. И вижу его. Две полоски на рукаве. Желтую и голубую. Два месяца ведь не ревела. Ни когда получила в лицо плевок от мерзкого камуфляжника в здании бывшей обл. гос. администрации, ни когда получила прикладом по загривку. Ни когда в соседний дом прилетело, ни когда убили человека в очереди за водой. А тут.. наверное, за все два месяца. Помню только, что за мной в рев кинулся весь автобус. Стояла на коленях, обняв его ноги, а он гладил меня по голове, приговаривая: «Ну досить, досить, все буде добре. Живі, і слава богу". Пыталась встать, держась за его руку, и целовала его шеврон. Как не оторвала, не знаю.
И сейчас в чужом городе и в чужом доме над моим рабочим столом у меня маленький флаг моей страны. Для меня этот флаг – это и есть моя свобода, выраженная в цвете и форме. Мой выбор. Моя страна.
Слава Україні!